Письменные воспоминания современников событий Второй мировой войны в Интернет-дневнике будут размещаться в разделе «Свидетельства».
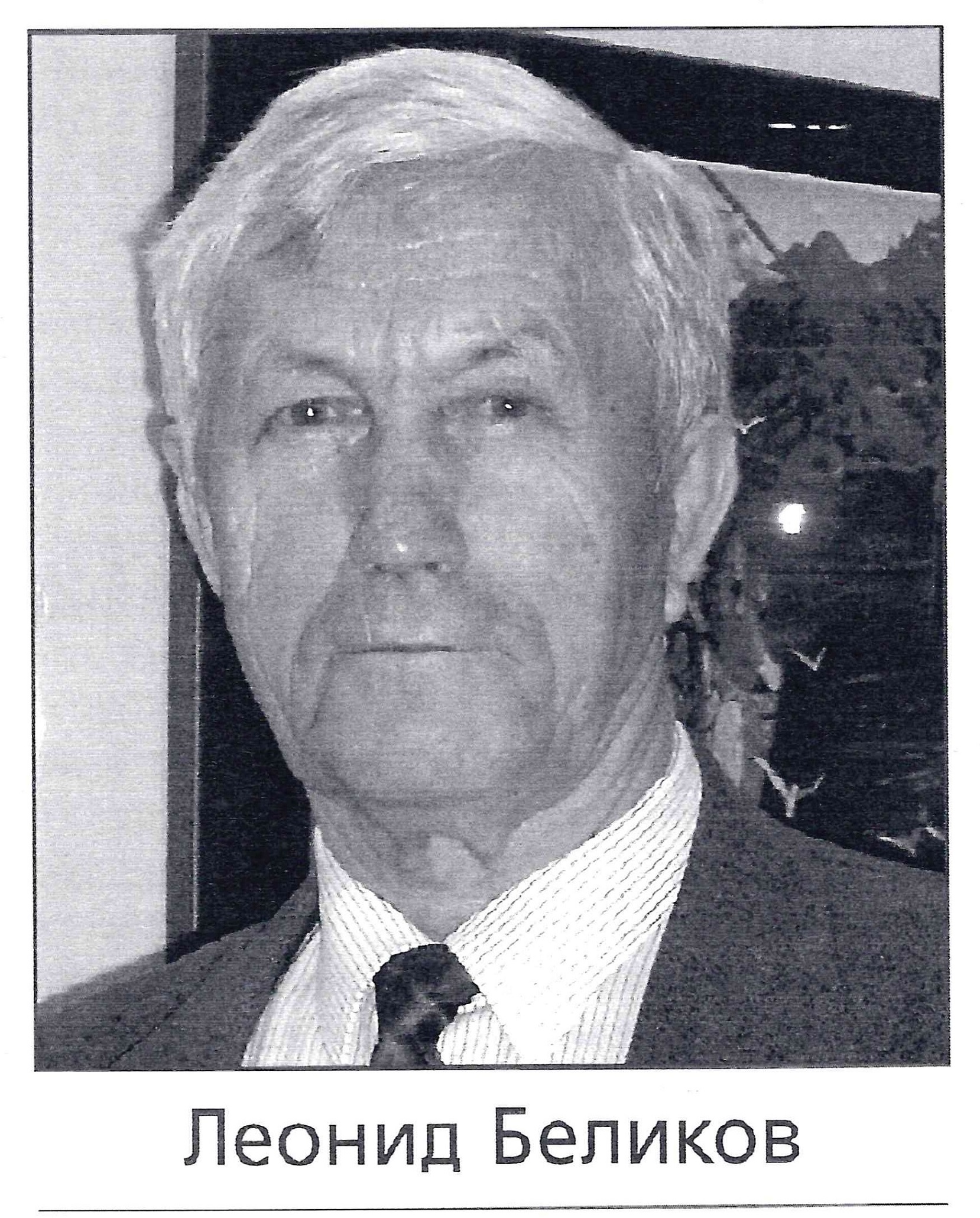 Беликов Леонид Сергеевич родился в 1937 году, в Старой Руссе Новгородской (в то время) области. Выпускник Омского высшего общевойскового командного училища и Военной академии им. М. В. Фрунзе. Служил в войсках спецназа, ликвидатор Чернобыльской катастрофы, полковник в отставке.
Беликов Леонид Сергеевич родился в 1937 году, в Старой Руссе Новгородской (в то время) области. Выпускник Омского высшего общевойскового командного училища и Военной академии им. М. В. Фрунзе. Служил в войсках спецназа, ликвидатор Чернобыльской катастрофы, полковник в отставке.
"Мне было шесть лет, когда началась война. Наша семья, отец Беликов Сергей Арсентьевич и мама Екатерина Васильевна, сестра Нина, брат Георгий и я, жили в городе Старая Русса Новгородской области. Это небольшой, утопающий в садах курортный городок, в котором в свое время жил Ф.М. Достоевский. Старший брат Николай служил в Красной Армии в чине младшего лейтенанта.
Слово «война» на меня произвело двоякое впечатление. С одной стороны, было страшно, так как при слове «война» женщины начинали плакать. С другой стороны, было любопытно: что же представляет из себя эта самая «война»?
За нашим городком располагался большой военный аэродром и авиационная база. Многие жители работали там. Как-то, в начале июля 1941 года, немецкие самолеты начали бомбить аэродром и военную базу. От разрывов бомб сотрясалась земля. В небо взметались языки пламени и черные, густые клубы дыма. Говорили потом, что почти все наши самолеты были уничтожены, так и не взлетев с аэродрома.
Люди стояли на улице, наблюдая за всем происходящим, с ужасом ожидая, что немецкие самолеты вот-вот начнут бомбить и город. Но этого не случилось. Сбросив все бомбы на аэродром, самолеты улетели. Мы, мальчишки, сновали между взрослыми, прислушиваясь, что они говорят, и не понимали, почему наши родители тревожатся. Для нас этот немецкий налет на аэродром и бомбежка были не более, чем интересным событием в нашей мальчишеской жизни. По нашим меркам это происходило где-то далеко и нас не касалось. Мы не видели убитых и искалеченных людей и не думали о смерти, так как были совершенно уверены в том, что будем жить вечно, а умирают лишь очень старые и совсем больные люди.
Помню, наверное, в середине июля, мама и моя пятнадцатилетняя сестра Нина, плача, стали собирать вещи, завязывая их в узлы. Я спросил ее, куда мы едем. Нина объяснила мне, что нас эвакуируют, то есть увозят подальше в тыл от приближающейся линии фронта, и нам надо идти на пристань. Через наш город протекает довольно широкая и глубокая судоходная река Полисть.
Со всеми узлами и инвалидом отцом мы кое-как дотащились до пристани. Там собралось уже довольно много народа. У пристани стояла большая баржа. По дощатым, шатким сходням мы втащили наши узлы, помогли отцу перебраться на баржу и разместились среди таких же беженцев, как и наша семья. Пока шла посадка, мы, мальчишки, обследовали всю баржу вдоль и поперек. Ничего интересного там не было, да вдобавок на нас шикали, чтобы не болтались под ногами, а иногда в сердцах награждали довольно увесистыми подзатыльниками. Пришлось сесть рядом со своей семьей и успокоиться.
Маломощный буксирчик, потрепанного вида, издал какой-то утробно шипяще-свистящий гудок и потащил нашу баржу верх по реке. Никто не знал, куда мы плывем, где будет остановка и как долго нам плыть. Проплыв, примерно, шесть-семь часов, преодолев расстояние в 50-60 км, буксирчик остановился: то ли у него закончилось горючее, то ли что-то сломалось. Нам велели разгружаться. Мы потащили наши узлы на берег, заросший лесом и кустарником. Мама с сестрой помогли сойти отцу.
Буксирчик вдруг затарахтел, развернулся и потащил баржу назад в город, а мы стали обустраиваться: сооружать шалаши из веток, готовить место для костра, чтобы приготовить пищу. Как я уже говорил, отец мой был в годах, инвалид (одна нога короче другой на 10 см, к тому же еще и не гнулась), ходил на костылях - помощи от него практически никакой в этом деле. Вся работа по устройству нашего бивака легла на плечи мамы, сестры и брата.
Нас, детей, радовало приволье. Мой брат Гоша, двенадцатилетний подросток, был заводилой среди своих сверстников. Мама поручила ему смотреть за мной, и я бегал за ним, как привязанный. Погода выдалась на редкость отменная, светило солнце, цвели цветы, пели птицы. Тишина, благодать! Мы ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, купались до посинения, играли, собирали хворост для костров. Вечерами молодежь собиралась у костра, пели песни под гитару, играли в различные игры. Если посмотреть со стороны, то наше временное «стойбище» напоминало цыганский табор, только без кибиток и лошадей.
О том, что где-то идет война, нам ежедневно напоминали десятки тяжелых бомбардировщиков с черными крестами на крыльях, пролетающих над нашим временным поселением. Их тяжелый надсадный гул приводил людей в трепет. Мы запрокидывали головы и смотрели, как они удаляются от нас. «Полетели наших бомбить, проклятущие», – говорил мне Гоша.
К вечеру самолеты переставали летать, все успокаивались, никто нас не тревожил, вспыхивали огни костров, слышался плеск воды, раздавался смех купающихся людей. Набегавшись за день до изнеможения, мы валились спать, не донеся кусок хлеба до рта. Полная свобода действий, минимальный надзор со стороны родителей, речка, лес, рыбалка, веселые вечерние посиделки у костра, песни, игры… Казалось, что так будет вечно.
Мы были отрезаны от всего мира. Никаких сведений, что творится в стране и нашем городе, мы не имели. К сожалению, все прекрасное когда-нибудь кончается. Однажды утром над нашими шалашами на бреющем полете пролетел маленький самолет, из которого посыпались листовки. Люди бросились их ловить. В них говорилось, что новые немецкие оккупационные власти приказывают всем жителям вернуться в город в течение трех-четырех дней, в противном случае наше временное поселение подвергнется бомбежке.
Вот тут-то и начались охи, ахи, плач, суета, сборы. Как мы возвращались в город, я плохо помню: то ли на барже, которую женщины и подростки толкали шестами, то ли пешком. Помню лишь, когда мы добрались до своего дома, то оказалось, что в нем обосновался немецкий офицер со своим адъютантом и денщиком. Нас не пустили даже на порог собственного дома.
Мы поселились в сараюшке, где раньше хранились дрова и всякий хозяйственный инвентарь. Наступали холода. Надо было подумать, где пережить зиму. Мама с Ниной и Гошей вырыли в огороде землянку, привели ее в порядок, и мы кое-как там разместились. Брат Гоша, побегав со сверстниками по городу, рассказывал, что делают немцы - о расстреле евреев и коммунистов, группы военнопленных красноармейцев, пытавшихся бежать из плена, о том, что бывшую городскую тюрьму превратили в концлагерь и во дворе ее часто звучат выстрелы.
Родители больше не разрешали Гоше брать меня с собой. Но вопреки приказам не отлучаться от дома, иногда я убегал вместе с братом. Видя, что запреты не помогают, мама и сестра нашли способ удерживать меня дома. Мама взяла длинную веревку, обвязала меня по талии крепким узлом, а второй конец веревки прикрепила к столбу, который подпирал потолок землянки. Я мог свободно играть во дворе дома, но не мог выйти за ворота. Если я пытался куда-то «улизнуть», отец брал веревку и втаскивал меня в землянку.
Осенью мама и сестра перекопали наш огород два раза, чтобы собрать все овощи. Они также перекопали огороды наших соседей, которые уехали из города. Но этих овощей все равно было мало, чтобы прокормить нашу семью. Тогда они стали выбираться за город, на бывшие колхозные поля, где многие горожане выкапывали мерзлые овощи. Брали все, что попадалось: картофель, репу, свеклу, морковь, капусту. Уходили рано утром, а возвращались поздно вечером, уставшие, голодные, промерзшие. Мама принималась варить из этого «сбора» что-то вроде супа или пюре.
Иногда немцы-повара солдатских кухонь звали подростков чистить картофель и другие овощи, носить воду, убирать и мыть посуду. Гоша и Нина частенько брались за эту работу, получая плату овощами, а иногда головками кур или гусей.
Мне не сиделось в душной, тесной землянке, и я постоянно пытался выбраться наружу. Наша армия начала обстрел немецких позиций. Снаряды рвались по всему городу. Меня выпускали на «волю», но как только начинался артобстрел, папа тут же втаскивал меня обратно в землянку…
Постепенно боязнь обстрелов притупилась, с меня сняли веревку и следили уже не так строго. Я опять везде бегал за братом. Мы не просто носились по городу в поисках приключений. У Гоши был свой план посещения тех мест, где можно было раздобыть что-либо съестное. Как правило, это были солдатские кухни, где мы могли бы выпросить сухарь, кусок хлеба или картофелину.
Помню, как однажды во время обеда начался артобстрел. Немецкие солдаты, побросав котелки с едой, бросились в блиндажи. Оглянувшись по сторонам, Гоша схватил самый большой котелок, почти до верху наполненный едой, и мы пустились бежать. Если бы нас поймали, избили бы до полусмерти, а то и вовсе бы пристрелили. Мы это хорошо знали, поэтому неслись, петляя по закоулкам, к дому.
Мать, увидев нас с котелком, накричала, надрала уши за воровство. Отец грозил костылем, обещая отлупить палкой, но дело было сделано, есть хотелось ужасно, и все сели за стол. В котелке оказался наваристый гороховый суп с мясом. Нам хватило на всю семью. Кажется, что ничего вкуснее этого супа я не ел в своей жизни. Прошло много лет, но вкус этого супа я помню до сих пор.
Через два дома от нас находился городской Дом культуры, который немцы превратили в госпиталь. Мы, мальчишки, собирались под окнами госпиталя и просили у солдат хлеба. Нам из форточек бросали на землю хлеб, леденцы, кусочки сахара, но когда наши крики надоедали им, то кто-то выставлял из форточки дуло автомата и стрелял в воздух. Мы, как пуганые воробьи, мигом разлетались во все стороны. А на завтра начиналось все сначала.
Однажды, один из раненых, видя, что мне, как самому маленькому, ничего не достается, подозвал меня и показал пальцем, чтобы я бежал к входной двери. Я побежал туда. Там уже стоял пожилой немец в офицерской форме. Он подошел ко мне, провел несколько раз рукой по голове и протянул солидный пакет. Я поблагодарил его и, радостный, побежал домой. Мама открыла его, тихо охнула и принялась доставать еду: бутерброды с маслом и джемом, две плитки шоколада, кусок колбасы и три пачки леденцов. Для нас это было целое богатство. К госпиталю я бегал выпрашивать еду еще много раз, но того офицера больше не видел.
Зима 1942 года запомнилась только постоянным чувством голода и мыслью о том, где бы достать то, что можно съесть, - для себя и своих родных.
Продолжались артобстрелы. В город стали прибывать части немецкой армии. Мы обрадовались, что стало больше солдатских кухонь, где можно будет подработать или выпросить еды.
С утра, как всегда, мы с пацанами нашей улицы, отправились на промысел. Вновь прибывшие солдаты выглядели уставшими, хмурыми. Мы стали просить еду. Один из солдат подозвал нас, указал пальцем в небо и сказал: «Сталин даст «брод» и «бон-бон». И, развернувшись, со всей силы ударил кованым сапогом под зад стоявшего рядом мальчишку. Тот, пролетев метра два по воздуху, ткнулся головой в кучу песка и остался лежать без движения. Солдаты стояли и гоготали.
Мальчишка долго не мог подняться на ноги. Лежал и плакал, размазывая по грязным щекам слезы. Ребята подняли его и увели. Мы поняли, что к этим солдатам лучше не подходить: искалечат или убьют и глазом не моргнут.
Помню, как согнали нас, жителей города, на площадь, где стояли виселицы, чтобы мы смотрели, как будут вешать мужчин и женщин с табличками на груди: «партизан».
Была середина лета. Мы с ребятами пошли за город собирать малину. Вдруг услышали крики на немецком языке. Мы притаились в кустах, чтобы немцы нас не заметили, и стали наблюдать. По тропинке, в окружении автоматчиков, шли два избитых до крови красноармейца, в разорванном обмундировании. Их вывели на отрытое место, дали в руки лопаты и заставили рыть яму. Когда она стала достаточно глубокой, их поставили на край этой ямы и расстреляли.
Немцы ушли, а мы бросились бежать домой и, плача, рассказали взрослым все, что видели. Впервые на моих глазах были хладнокровно убиты люди. Я долго не мог успокоиться, плакал, и отец не отходил от меня, утешая, как мог. Ночью старшие ребята закопали яму, сравняв ее с землей. Вот и еще одна братская могила с неизвестными солдатами.
Издевательств над людьми за годы оккупации я видел много, но в памяти остались наиболее яркие, которые заставляли сжиматься сердце от страха.
С приближением линии фронта к Старой Руссе усилились артобстрелы и участились бомбежки. Здания города превратились в руины. Практически не осталось ни одного целого строения, за исключением двухэтажного деревянного дома, где когда-то жил Ф.Достоевский, да старинного, тоже деревянного, купеческого дома. Как они уцелели, одному Богу известно.
В конце лета 1942 года немцы начали эвакуацию жителей города на запад. Нас привезли в отдаленную деревню, в тридцати километрах от города Красные Струги. Большая красивая деревня расположилась на берегу живописного озера. Нашу семью поселили в пустующем добротном доме.
Этот край был партизанским, и немцы редко наведывались сюда. Поздней осенью, ночью, партизаны привели к нам двух детей, мальчиков трех и четырех лет. Они рассказали моим родителям, что отец этих детей, офицер Красной Армии, воюет, а мать умерла. Местные жители не берут к себе детей, боятся, что кто-нибудь донесет немцам, и их вместе с детьми расстреляют, а так как мы пришлые, то вполне можно их выдать за свою родню. С нами жила мамина дальняя родственница баба Варя, которую мама опекала. Посоветовавшись с отцом и бабой Варей, мама приняла детей в нашу семью.
Мой отец был прекрасным воспитателем: учил азбуке, рассказывал забавные и поучительные истории, пел песни, выдумывал для нас различные игры. Сестра Нина ушла в партизанский отряд. На маминых руках «повисла» орава инвалидов и малышей. Единственным помощником был 14-летний брат Гоша.
Вечерами к нам приходили соседи и просили отца спеть. У него был красивый сильный голос, тенор. В молодости ему предлагали петь в Мариинском театре, но он отказался и ушел в армию, где дослужился до фельдфебеля, был тяжело ранен в ногу и остался инвалидом. Отец никогда не отказывался петь, когда его просили. У него был замечательный репертуар из русских народных песен. Вместе с детьми я забирался на теплую русскую печку и слушал его песни. Я был чувствительным мальчиком и часто плакал, жалея от всего сердца тех, о ком пелось в песне: замерзающего в голой степи ямщика; бродягу, который шел по диким степям; ямщика, у которого в снегу погибла невеста; есаула, у которого убили любимого коня. Я плакал, а все утешали меня. Отец обнимал - и мне было хорошо и спокойно в его объятиях.
Так проходили дни и недели. Однажды, после одной, удачной, партизанской операции, нашу деревню окружили отряды полицаев и немцев. Партизаны, отстреливаясь, скрылись в лесу. Немцы подожгли деревню, а всех жителей построили в колонну и погнали в город Красные Струги. Не было ни криков, ни плача. Все свое горе люди уже выплакали.
Шли молча. В небе, параллельно колонне, проплывала огромная красноватая луна. Снега еще не было, но стоял жуткий холод, пробирающий до костей. Слышны были крики полицаев, да раздавались одиночные выстрелы. В колонне шептали, что добивают тех, кто не может больше двигаться.
Впереди нашей семьи на костылях шел отец. Его поддерживала мама, неся на руках трехлетнего Володю. Иногда ребенка у мамы забирала баба Варя, стараясь, чтобы мама отдохнула. Гоша вел за руку меня и Васю.
К обеду мы подошли к какой-то деревне. Нас загнали в сарай, где, сидя на мерзлой картошке, мы отдыхали часа три. Нас опять построили в колонну и погнали дальше. К ночи мы были в Красных Стругах.
Нас поместили на втором этаже какого-то здания, обнесенного колючей проволокой в два ряда. Кормили два раза в сутки: небольшой кусок хлеба, из чего испеченного - неизвестно, железная банка супа из картофельных очисток, с добавлением небольшого количества крупы и кусочков неочищенной свеклы. Детям давали добавку в виде кусочка белого хлеба с тонким слоем джема.
Так прожили мы два или три месяца. Потом стал приходить офицер, выкрикивал фамилии, и те, кого он назвал, уходили вслед за ним. Это были только старые или больные люди. Гоша сказал мне, что этих людей сажают в «душегубки» и увозят куда-то. Что представляют собой «душегубки», мы к этому времени знали хорошо. Это означало одно – смерть. Вскоре увезли бабу Варю. Настала очередь отца. Вошел офицер и, как всегда, стал называть фамилии, кого сегодня увезут. Назвал фамилию отца. И тут мы всей семьей бросились к офицеру, окружили его и подняли такой крик и плач, что тот лишился дара речи. Он не выдержал нашего ора и на сегодня отменил «душегубку». Так мы спасли нашего отца от смерти.
На другой день нас погрузили в товарные вагоны и отправили в Латвию. Я не помню, сколько дней мы были в пути, кормили нас или нет. Но помню то теплое весеннее утро, когда нас выгрузили из вагонов на станции. Мне понравился этот чистый городок, мирный, не разрушенный бомбами и снарядами.
Нас привели на небольшую площадь, где стояло много подвод, а возле них - много мужчин и женщин. Это были хуторяне, латыши. Они стали ходить между нами, прибывшими, выбирая себе батраков. Брали по нескольку человек или семью, сажали в телегу и увозили. Людская толпа убавлялась на глазах.
Нашу семью с отцом-инвалидом, тремя малыми детьми и одним мальчиком-подростком никто не брал. На площади мы остались одни. Мама плакала. Отец ее утешал, как мог. Наступил вечер. Стояла гнетущая тишина. Мы даже есть не просили у мамы, так как знали, что еду взять негде.
Вдруг мы услышали стук колес по брусчатке. Показалась лошадь, запряженная в большую телегу, на которой сидел латыш, лет 55-ти на вид. Он подъехал, молча показал нам, чтобы мы забирались в телегу. Помог отцу сесть. По дороге к хутору отец и наш новый хозяин о чем-то оживленно разговаривали. Мы, дети, утомленные новыми событиями, голодные и уставшие, сразу уснули. Папа потом рассказывал, что наш хозяин служил в Красной Армии и имел немало друзей в России.
Нас разбудили и повели туда, где мы теперь будем жить. Это была добротная пристройка к дому. Принесли ужин. Мы чуть не попадали в обморок от запаха еды: мясной, чудно пахнущий суп, каша, масло, вкуснейший, чистый хлеб, молоко, мед, чай. Мы уже забыли, что на свете бывают такие вкусные вещи. Опьяневшие от обильной еды, под говор и молитвы отца и матери, мы повалились спать.
У нашего хозяина была большая работящая семья, и они сами справлялись с работой в своем хозяйстве. Между собой они говорили по-латышски, а с нами – по-русски. Маму и Гошу хозяин отправил работать к другу на соседний хутор, где нужны были рабочие руки. Мы, чем могли, старались помочь нашему благодетелю. Отец, в прошлом слесарь-жестянщик, починил все сломанные железные вещи и механизмы.
Я пас небольшое стадо хозяйских коров. В стаде был молодой бычок. Он всегда был послушным телком, но к концу лета окреп, подрос. И когда я его огрел хворостинкой, чтобы вернуть в стадо, он развернулся ко мне мордой, утробно рявкнул и стал рыть землю передними ногами, глядя на меня налитыми кровью глазами.
Поняв, что с этой минуты моя власть над ним кончилась, я развернулся и со всех ног бросился к небольшому деревцу, стоящему посреди луга. Взлетев на деревце орлом, я уселся на сук, глядя на своего преследователя с победным видом. Но бычок в порыве преследования так ударил в ствол своим крепким лбом, что сучок, не выдержав моего веса, сломался и я полетел вниз, шлепнувшись аккурат рядом с бычком. Тот рявкнул, взбрыкнул ногами и помчался к стаду, а я с ревом помчался на хутор. Хозяин отстегал бычка, а моя должность пастуха на этом и закончилась.
В сентябре 1944 года, когда Красная Армия освободила Латвию от фашистских захватчиков, за нами приехала моя сестра Нина (которая уходила в партизаны) и помогла нам вернуться домой.
Дома, на родине, нашелся отец наших приемных Сережи и Володи. Эти дети стали нам родными, наши родители никогда не делали различия между нами и приемными мальчиками. Расставаться с ними было тяжело. Мы много плакали.
До сих пор вспоминаю нашего хозяина и его семью, приютившую нас. К сожалению, забыл их имена и название хутора – для русского уха эти звуки были трудны, - но безмерно благодарен им за отзывчивость, доброту, заботу и человечность. Они не дали нам умереть в военное время и помогали вплоть до 1949 года, - даже тогда, когда наша семья уже вернулась в Старую Руссу".
Из сборника очерков о детстве в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Пули искали меня…» (Рига, 2015).
Публикация согласована с редактором-составителем Панченко Верой Иосифовной,
писательницей, поэтессой, переводчицей, журналисткой, членом Союза писателей Латвии,
членом Союза российских писателей (гг. Рига, Псков).