Письменные воспоминания современников событий Второй мировой войны в Интернет-дневнике будут размещаться в разделе «Свидетельства».
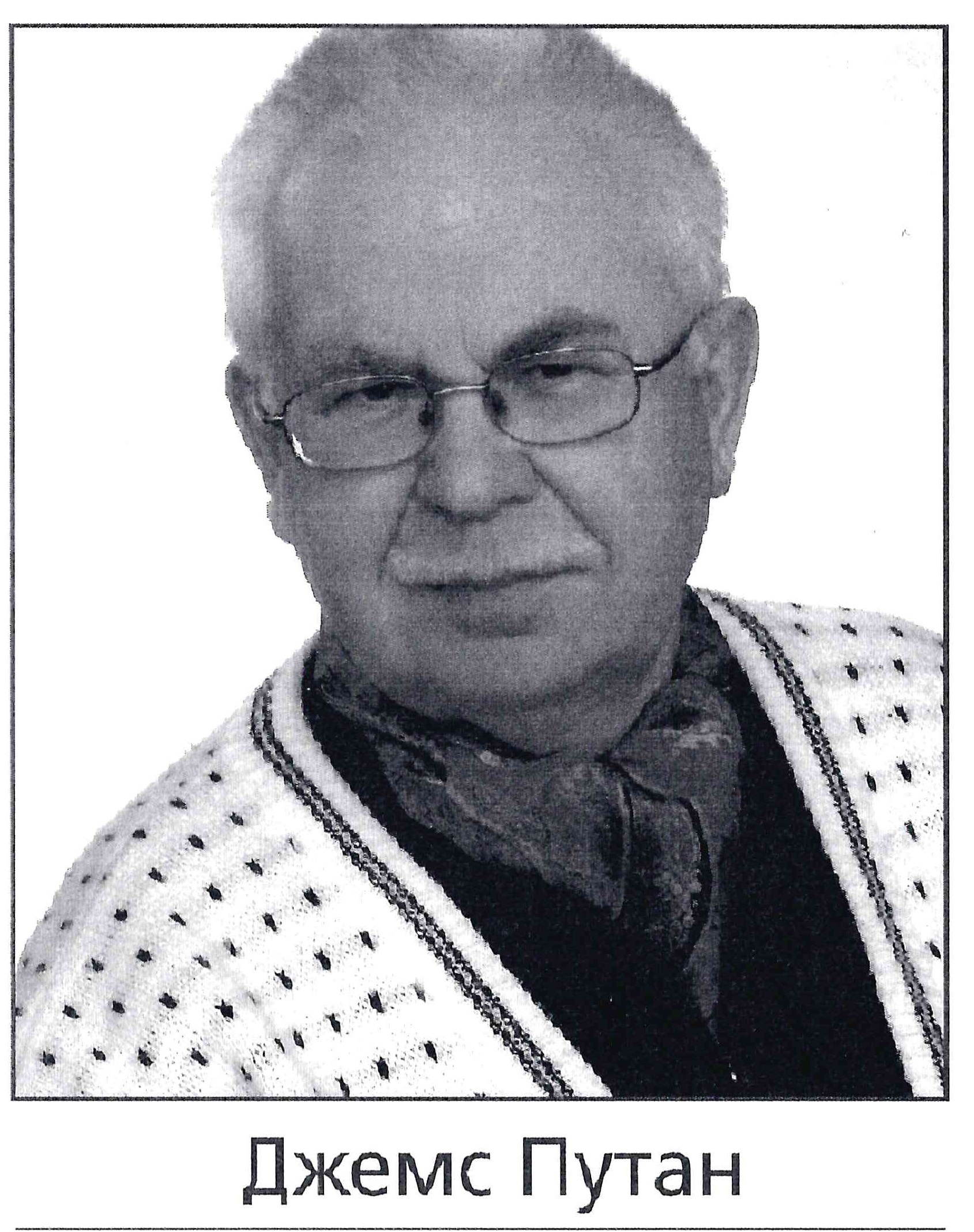 Джемс Дзима Зенон Путан родился в 1934 году, в Риге. Окончил юридический факультет Ленинградского Госуниверситета по специальности правоведение. 29 лет проработал в органах МВД Латвии, подполковник милиции. Имеет научные публикации. Награжден. Ушел из жизни в 2008 г.
Джемс Дзима Зенон Путан родился в 1934 году, в Риге. Окончил юридический факультет Ленинградского Госуниверситета по специальности правоведение. 29 лет проработал в органах МВД Латвии, подполковник милиции. Имеет научные публикации. Награжден. Ушел из жизни в 2008 г.
"Светлой памяти отца Алоиза Путана...
Кто-то ее называет Второй мировой, - а для меня она была, есть и будет Великой Отечественной войной 1941-1945 годов. В феврале 1943 года, в боях под Наро-Фоминском пал смертью храбрых мой отец, лейтенант Красной Армии Алоиз Путан.
9 мая – день Победы. Это – и мой праздник. Благодаря этой победе, наше надломленное войной детство выправилось, мы остались людьми.
В начале войны семь латышских семей: Бабра, Ващенко, Комаровы, Ласманы, Путаны, Трофимовы, Тучины оказались в одном товарном вагоне, шедшем на восток – нас эвакуировали. Это были женщины, старики и дети – последних общим числом оказалось 18 (один из нас – инвалид). Наши отцы – все на фронте. Забегая вперед, скажу, что лишь один из них, Комаров, вернулся домой, - остальные погибли, защищая Москву. Вот передо мной служебная характеристика отца, полученная мною из Центрального архива Министерства обороны РФ. В ней сказано: в боях под деревней Выставка Алоиз Путан ворвался во вражеский ДЗОТ, в рукопашном бою уничтожил несколько фашистов и захватил ручной пулемет… «Пал смертью храбрых» - это не дежурная фраза, это – реальность.
Забросило нас на берега далекой Суры, в Курмышский район, на окраину Горьковской области. В селе Казачье было сорок дворов, вытянувшихся в одну улицу. Для нас нашлись пустые заброшенные избы, успевшие от бесхозности потерять завалинки (без которых тепло зимой не держится) и приобрести в стенах дыры… На события тех дней накладываются десятилетия. Ластик времени стирает в моей памяти страшные недетские картинки. Стирает, стирает… Но мы, дети войны, не имеем права замалчивать нами пережитое, тем самым давая зеленый свет фальсификаторам истории, родившимся после войны и пишущим о минувшей войне на заказ и за деньги.
Весна
По колхозному полю медленно двигается трактор, тарахтя, громыхая и волоча за собой огромный плуг. Лемеха плуга с трудом выворачивают пласты земли, не успевшей прогреться весенним солнцем. За плугом – стая желтоклювых скворцов деловито собирает червей. «Вторым эшелоном» за скворцами двигаемся мы, пацаны, бывшие рижане, палкой вороша каждый комок земли. Мы собираем прошлогоднюю, мороженую, картошку. «Урожай» складываем в наволочки (вместо мешков). Мои босые ноги давно одеревенели от холода. Побежать бы домой, согреться… я подбадривал себя тем, что скворцы – маленькие, лапки у них тоже замерзли, но они – трудятся, не устают. Надо и мне терпеть.
Дома эту картошку промывали, горсточку-другую муки в нее, и из этого месива пекли лепешки на таганке. Вполне годится, чтоб заесть голод. А если с чаем? Заварка травяная, кусочки сахарной сушеной свеклы – и я вам скажу…
Лето. Осень
Хочется поиграть со сверстниками в лапту, «чижа», испорченный телефон, но – надо работать. Пас у колхозников личную скотину, помогал колхозному пастуху стеречь стадо, развозил по колхозным бригадам воду на лошади. Об этой лошади хочется рассказать подробней: у нее была красивая кличка «Стрела», но звучало это курьезно, поскольку моя бедная лошадь была хромой. Я ее очень любил, и она отвечала мне привязанностью и добротой.
Без скидки на возраст работал на уборке подсолнуха. Чистил конюшню, скотный двор. И при всем этом домашние хлопоты: запасти хвороста под таганок, сбегать на болото за диким луком. После жатвы на поле оставались упавшие колосья пшеницы, проса, ржи. Все с той же наволочкой – айда за колосьями. Одноногий бригадир, прозванный нами «Костылем», гонялся за нами на двуколке с плетью. Несколько раз и я попадал под его удары. Не понимал я своим детским умом, почему он не дает собирать. Ведь колосья все равно сгниют на поле…
У наших, латышских, семей была коллективная «собственность» - жернова (каменный круг). Очищенные колосья мы прокручивали – получалось несколько горстей муки. Добавка к маминым «трудодням».
Школа
Большая изба за околицей нашего села Казачье. Поговаривали, что название это пошло от Емельяна Пугачева (а рядом было село Стрелецкое). Просторные сени, затем две большие светлые комнаты. В одной занимались ученики первого и третьего классов, в другой – второго и четвертого. Еще была небольшая учительская, но не помню, чтоб кого-то из нас туда вызывали. Такой была начальная школа, куда я пошел первый раз в первый класс. Это было 1 сентября 1941 года. В первом классе я впервые вывел по-русски «ма-ма мо-ет ра-му». Это было очень трудно: русского не знал совсем, а в селе говорили больше по-чувашски, чем по-русски, и у меня в голове оседала такая смесь, что меня прозвали татарином…
Из окон школы было видно поле, на котором росла капуста. Местные ребята на переменах притаскивали тяжеленные кочаны и щедро делились добычей с нами, рижанами. Листья белые, сочные, хрустящие, сахарные – это было настоящим лакомством. Все съесть до звонка не успевали и потом, на уроке, потихоньку (так нам казалось) хрумкали… Учителя жалели нас, вечно голодных детей-беженцев, и замечаний нам не делали.
Два раза в месяц приезжали из районной Курмышской больницы врач и медсестра. Первым делом проверяли класс на вшивость. Слава Богу, ни одну живую вошь на нас, пришлых, не нашли. А они были. И - немало. И появлялись, невесть откуда. Дома велась с паразитами беспощадная, ежедневная борьба с помощью тяжеленного утюга (с трубой и набитыми в брюхо горящими углями). Беженские семьи к тому же боялись, что их могут обвинить в том, что это они привезли в село паразитов. В школу мы ходили голодные, но всегда наутюженные. У нас все, даже девчонки, были острижены наголо.
В Казачьем жили русские, чуваши, татары, а теперь еще и латыши. Местные ребята нас никогда не задирали, не было случая, чтобы кого-то из нас избили. Среди детей был полный интернационал.
Горбушка хлеба – по-латышски dona.
Письма с фронта приходили редко. Это были листки из ученической тетради, сложенные треугольником, без марки, не заклеенные, но обязательно со штампом «проверено военной цензурой». В каждом письме отец интересовался, как мы живем, не нуждаемся ли в чем-нибудь. Мать отвечала таким же треугольником, в котором химическим карандашом писала, что у нас все в порядке, пусть не беспокоится, бережет себя, насколько это возможно, и сильнее бьет врага. О том, что умерла моя трехлетняя сестренка Светлана от воспаления легких, он так и не узнал. В то время, в наших условиях, с такой болезнью было не справиться. Если бы мать написала о смерти дочери, думаю, цензура либо вычеркнула бы эту строку, либо не пропустила письмо.
Помню, в одном письме мама написала примерно так: тетя Дона приходит к нам раз 150 в день и все находит, о чем поболтать. Дети всегда радуются ее приходу, как празднику: «Доныня, доныня пришла!» Это означало, что нам выдают по 150 граммов хлеба в день.
Несколько раз я пробовал просить милостыню. Ходил в соседние села. Заходишь в избу, переступаешь порог, устремляешь глаза на иконы в красном углу и произносишь: «Подайте милостыню Христа ра-ади, хлеба корочку или варену картошечку» Иногда подавали, но в большинстве случаев отвечали: «Бог подаст. Иди, милый, иди…» То, что скажу, прозвучит кощунственно, но – праздником для меня были поминки. Местные селяне имели участки земли, держали скотину. Когда кто-то покидал этот мир, родственники непременно накрывали поминальные столы, несмотря на тяжелые времена. Мы, дети беженцев (так нас называли, не умея выговорить слово «эвакуированные») были завсегдатаями этих поминок. Здесь нас никто не прогонял и не говорил «Бог подаст». Вот когда я наедался досыта и думал: когда же будут следующие? Понимал, что грех так думать, но голод брал свое…
СлабО
В избе было тепло, но – всегда хотелось есть. Я знал, что там, за окнами, разрисованными выпуклыми морозными узорами, ребята катаются с горки. У меня не было обуви – приходилось сидеть дома. Однажды созрела мысль. Я слез с полатей и направился к двери. «Куда?» - спросила бабушка Вера. «Писать» - и выскользнул в сени. Сделав свое нехитрое дело, скинул неудобные опорки (изношенные валенки без голенищ, приспособленные под домашнюю обувь) и – айда босиком на речку. Наша изба была крайняя, перебежал дорогу и я - на взгорке, а под ним – речка. Ребят много, шумно, весело. Они катались на санках, самодельных лыжах. Увидев меня, закричали: «Димка, Димка, возьми мои, вот на, бери!», наперебой предлагая свои санки и лыжи. Я продел свои босые иссиня-красные ступни в ременные лыжные уши и покатил вниз. Не проехал и треть горы – мои ноги выскользнули из креплений, и я грохнулся в сугроб, а лыжи облегченно помчались на лед. Вскочил и под хохот, свист и улюлюканье ребятни понесся домой. Незамеченный бабушкой, прокрался в избу, шмыгнул на теплую печку.
Тут мне и пришла мысль самому сделать лыжи. Достал две доски от развалившейся бочки, заострил концы и стал их «варить» в чугуне. Концы размягчались, и каждый раз я их сгибал на несколько миллиметров под грузом. Работа, хоть и медленно, но продвигалась… А пока суть да дело, продолжал свои вылазки на снежную горку, убедившись, что после первого раза не заболел.
Вскоре из Латвийского консульства в городе Горьком пришла посылка с вещами на все семь наших семей. Мне достались поношенные подростковые валенки (Бог услышал мои молитвы), ярко-желтый пиджак (летом в нем меня за версту было видно) и большая серая кепка, которая держалась на моей голове исключительно благодаря ушам.
Прошло много-много лет. Я пенсионер. Однажды гуляя в Юрмале по берегу моря, встретил «моржей». Красные, разгоряченные километровыми пробежками, они прыгали в воду, подбадривая себя выкриками. «А что, если и мне попробовать?» - подумал я, - СлабО?» Разделся, сделал несколько упражнений – и туда же! Так я стал «моржом». Помогла детская вынужденная подготовка.
Конец кошмарному сну
Мне снится сон: мы едем в эвакуацию. Железнодорожный товарный состав. Почему-то вагоны называют «телячьими». В вагонах – дощатые нары. Народу – битком на обоих «этажах»: женщины, дети, старики. Духота. Все раздеты до последнего. Шумно – разговоры взрослых, плач детей. Неожиданно эшелон останавливается посреди поля. Впереди лес. Паровоз отцепляется, дает два гудка и скрывается за лесом. Раздается команда: «Воздушная тревога! Всем покинуть вагоны! Воздушная…» Залязгали, заскрипели ржавчиной широкие двери. Люди, как горох, посыпались из вагонов и стали разбегаться по полю. Бабушка Вера категорически отказалась покинуть вагон. Она забилась в угол, прижала к груди икону и заявила: «Я остаюсь с нашим Господом» .
Мать бежит с сестренкой на руках. Я следом. Из-за леса появляются два немецких самолета. Летят низко, едва не задевая верхушки деревьев. И начинают расстреливать из пулеметов и пушек людей: бегущих, ковыляющих и лежащих женщин и детей. Затем они взмывают ввысь, разворачиваются и – снова с ужасающим воем проносятся над землей, поливая нас свинцом.
Я упал, споткнувшись о кочку, о другую ударился животом. Перехватило дыхание, не могу встать. Лежу с раскрытым ртом, как рыба, вытащенная из воды. Рядом лежит женщина, накрыв своим телом девочку моего возраста. Я уткнулся лицом между кочками. Когда поднял голову, увидел, что девочка выползает из-под безжизненного тела матери. Она стала громко кричать: «Мама, мамочка, не умирай!», заливаясь слезами. Глядя на нее, я тоже заплакал Ни моей мамы, ни сестренки не было видно. Эхом прокатился над болотом голос: «Отбой воздушной тревоги!» Появился паровоз и гудком стал собирать уцелевших беженцев. К вагонам спешили измученные, перепачканные землей, перепуганные люди. Убитые так и остались лежать там, где их настигла пуля. Горели три последних вагона. Мы с девочкой сидели и ревели в два голоса. К нам подошла незнакомая молодая женщина. Видимо, думая, что мы брат и сестра, взяла нас за руки и повела к вагонам. На станции, где была остановка, меня нашла мама, а девочку я больше не видел.
Я проснулся в холодном поту. Было раннее майское утро 1945 года. Но - что это? На улице слышалась беспорядочная стрельба. Немецкий десант? Но еще вчера передавали: в Берлине продолжаются уличные бои… И в моей голове возникло предположение: взбунтовались немецкие военнопленные , которые работали на Лудзенском промкомбинате, их было около двухсот человек.
Ригу освободили в октябре 1944 года. В Лудзу мы вернулись в этом же году, в декабре. Без отца и без сестренки. Война подходила к концу. Но – стрельба? Наскоро одевшись, бежим с матерью в сторону городской площади. Вот и площадь. Справа церковь, прямо – здание милиции. На площади – возбужденные толпы людей. Из окон управления милиции палят в воздух из всех видов оружия. В небе рвутся цветной россыпью ракеты. Незнакомые люди обнимаются, целуются, радостно вскрикивают: «Победа! Война закончилась! Ура!»
Этой ночью я в последний раз видел кошмарный сон о бомбежке, пережитой в тот далекий июньский день 1941 года. Дело в том, что этот сон повторялся бесчисленное множество раз: со дня бомбежки - до дня Победы.
И еще один сон…
И еще один сон, который повторяется все время, и по сей день не может от меня отвязаться: я снова поступаю в Университет, на тот же самый факультет, и в тревоге спрашиваю себя – зачем? Ведь этот факультет я уже окончил. Разгадка, наверное, в том, что я единственный во всем нашем роду имею высшее образование. Наверное, и мне пришлось бы провести жизнь за распиловкой и обтесыванием камня, глотая тонкую пыль могильных плит на <Rigas granits>, как мои прадед, дед и отец. Усилия, затраченные на ученье, и моя ответственность перед родственниками потрясли душу и не хотят оставить меня в покое…
Мы такие
Десятилетку я закончил в вечерней школе, будучи при этом ювелиром на Рижской ювелирной фабрике. Работа эта трудная и кропотливая – времени на занятия не оставалось. Попасть в институт очень хотелось, я занимался ночи напролет, но при этом в своих знаниях не был уверен…
Жарким летом 1955 года я приехал в Ленинград поступать в юридический институт им. М. И. Калинина. Но – увы: его объединили с юрфаком ЛГУ. Для меня это означало, что надо сдавать вступительный экзамен по иностранному языку… Скорее забрать документы и, пока есть деньги, – в Саратов! Там – тоже юридический институт.
Вот этот длиннющий, на целый квартал, коридор второго этажа центрального здания Университета. Справа дверь, на ней: «Приемная комиссия». Я приехал с опозданием, ожидая вызова из уже несуществующего института, и не застал главного наплыва поступающей молодежи. Перед дверью толпилась очередь солидных пап и дедушек с орденами во всю грудь, шикарно одетых мамаш, видимо, проталкивающих в ВУЗ свое чадо. Кто-то ревниво спрашивает у парня в клетчатой рубашке с закатанными рукавами (это я): «Поступаете?» - «Нет, я пришел забрать документы». Толпа оживленно расступилась, мне доброжелательно заулыбались: «Проходите без очереди. Пропустите молодого человека!» «Как мне повезло…» - подумал я и шагнул за дверь.
Ответственный секретарь Приемной комиссии, видно, участник войны (с пустым рукавом пиджака, заправленным в карман), услышав, что я пришел забрать документы, усадил этакое «чудо» и начал расспрашивать, откуда такой взялся. Узнав, что я из Риги, учился в вечерней и не уверен, что сдам английский, сказал: «На фронте мы были соседями с латышской дивизией. Храбрые бойцы. Твой отец погиб, не струсил, а ты - испугался… Документы не получишь. Вот направление в общежитие и экзаменационный листок. Иди, готовься. Всё!».
Очередь за дверью, узнав, что я поступаю, теперь отнеслась ко мне без прежней доброжелательности… Экзаменационный листок постепенно заполнялся оценками «отлично», но это не давало повода расслабиться. Очередной экзамен таил в себе опасную неизвестность. Прочь мысль: «А если не поступлю…». Попреки, насмешки, жалость – вот что ожидало бы меня дома. Только вперед – в Ригу «со щитом, а не на щите». Царствие Небесное человеку, заставившему меня поверить в свои силы, силы моего поколения, выросшего из военного детства, поколения, которое умеет добиваться, беречь и благодарить…".
Из сборника очерков о детстве в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
«Пули искали меня…» (Рига, 2015).
Публикация согласована с редактором-составителем Панченко Верой Иосифовной,
писательницей, поэтессой, переводчицей, журналисткой, членом Союза писателей Латвии,
членом Союза российских писателей (гг. Рига, Псков).