Письменные воспоминания современников событий Второй мировой войны в Интернет-дневнике будут размещаться в разделе «Свидетельства».
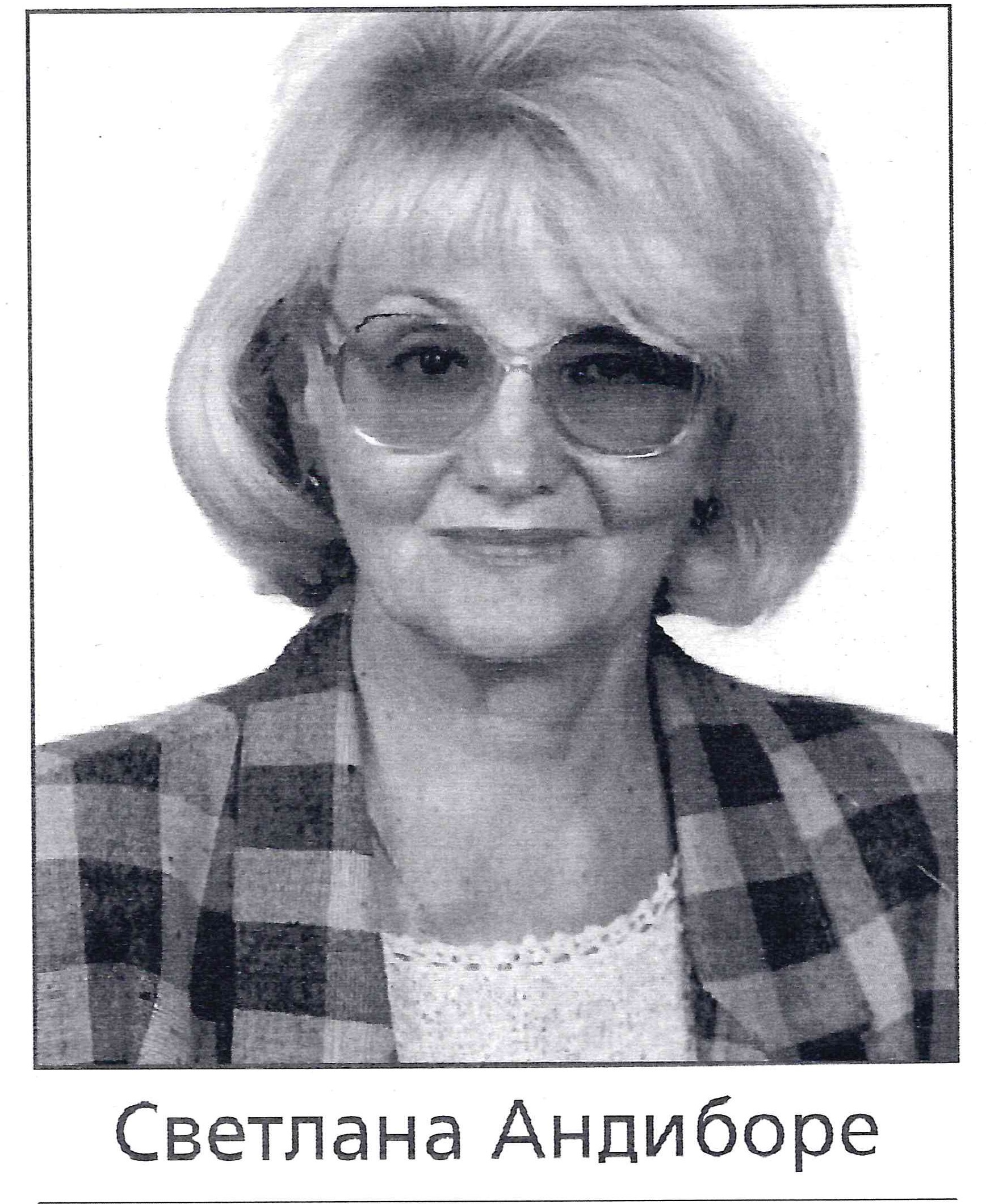 Андиборе Светлана Михайловна родилась в городе Хуло (Грузия). Окончила Львовский политехнический институт, инженер путей сообщения. Работала в Министерстве путей сообщения Латвии, в департаменте автомобильных дорог.
Андиборе Светлана Михайловна родилась в городе Хуло (Грузия). Окончила Львовский политехнический институт, инженер путей сообщения. Работала в Министерстве путей сообщения Латвии, в департаменте автомобильных дорог.
"Светлой памяти моей дорогой мамы...
Вспоминать о военных годах мне довольно трудно по той причине, что была тогда слишком мала. О первых днях войны рассказываю со слов моей матушки Дарьи Марковны, которой в то время был всего лишь 21 год.
Мои родители, отец Андибор Михаил Никандрович – младший лейтенант медицинской службы пограничных войск, мама – домохозяйка, у них двое детей – я и братик Руслан девяти месяцев. В июне 1941 года мы приехали из Грузии в отпуск к маминым родителям, на Украину…
Стояло жаркое лето. Большая наша родня была гостям очень рада – застолья, украинские песни, беседы. Ничто не омрачало их отпуск. Но тут дети один за другим заболевают скарлатиной. Все внимание сосредоточилось на детях. Прошло несколько дней…
Отец неожиданно получает телеграмму, в которой ему предписано - немедленно явиться на место службы, в Батуми (причина не сообщается). Надо срочно ехать. Дорога дальняя – как быть с больными детьми? Тем более, в такую жару. На семейном совете решили: мама с детьми остается здесь. Отец немедленно уехал, обещая телеграфировать…
И вдруг – шок. Началась война! Всеобщее замешательство. Отец стал слать телеграмму за телеграммой: выезжайте немедленно. Мама в растерянности – как же ехать, когда дети еще больны?
От отца снова телеграмма с требованием выезжать немедленно. Надо было что-то делать. Все находились в шоковом состоянии, никто не знал, что будет дальше, надолго ли война, – может быть, она вот-вот окончится?
Радиосводки сообщают о наступлении немцев. Уже захвачена часть Украины. Немцы стремительно двигаются на юг республики. Началась паника. Люди с вещами, скарбом устремились на вокзалы. Кто на поездах, кто на машинах, кто на бричках – люди стали покидать город.
Мама все еще в растерянности – дети больны. Старшая, я, пошла на поправку, но у братика получилось осложнение – он весь покрылся чирьями. Чирьи болят, братик постоянно кричал от боли. С такими болячками ребенку в дорогу нельзя. Но и оставаться нельзя! Кто знает, как поведут себя немцы с семьями офицеров. Могут люди донести на нее, и неизвестно, чем это закончится.
Бабушка Мария, мама моей мамы, стала решительно настаивать: надо возвращаться к отцу, несмотря на болезнь детей. По военному билету, на воинском эшелоне… Кинулись, а документов у мамы – никаких. Да, так вот и было. Легкомыслие? Не знаю, но так случилось. Без документов в военной кассе билет не дадут. Положение спасает бабушка. Несколько слов о бабушке, замечательном человеке, - для которой не было безвыходных ситуаций. Маму она удочерила трехлетнюю, выйдя замуж за маминого отца, и относилась к ней так, что о неродстве было всеми забыто… И тут деятельная и находчивая бабушка предпринимает всё, чтобы наш отъезд состоялся. Она ходила несколько раз на вокзал, узнала, что есть эшелон, который идет в Тбилиси. Она заставляет маму со всеми папиными телеграммами пойти к военному коменданту города. И просить, умолять его выдать ей справку, что она жена офицера, и дать документ на право проезда в воинском эшелоне.
Казалось, ну кто поверит этому? Но выхода не было – надо было решаться. И вот моя неопытная мама, совсем еще девочка, растерянная от свалившихся на нее проблем, пошла к коменданту города. Она сумела к нему попасть, сумела объяснить ситуацию, умоляя о помощи.
Спустя годы мама рассказывала мне, что всю жизнь помнит его умное лицо. Он выслушал ее внимательно, поверил ей и распорядился, чтоб выдали нужные документы, которые тут же заверил. Мама вышла из комендатуры, не веря совершившемуся. Этого человека она мысленно благодарила всю жизнь. Практически, он спас нам жизнь. Мама очень сожалела, что в спешке даже не узнала его фамилию.
Дома наскоро собрались и – на вокзал. А там невероятное: людей видимо-невидимо, штурмуют кассы. Теперь главное – достать разрешение на тбилисский эшелон, что было тоже маловероятным.
Еще раз спасибо бабушке моей (тогда ей было около 50 лет). С этими документами она пошла к военкому вокзала. Он даже слушать не хотел, прогоняя ее. Но бабушка была очень твердого характера, снова и снова требовала своё. В конце концов, военком сдался…
Когда вышли к поезду – ахнули: все вагоны переполнены солдатами (возможно, их везли к месту формирования армии). Крики, визги, ругань. Штурм вагонов. И только благодаря настойчивости, упорству бабушки мы сумели уехать. В помощь маме бабушка настояла взять с собой 14-летнюю сестру отца, мою тетю Лизу. И она тоже была спасена от оккупации.
Мама с ужасом вспоминала, как она с нами садилась в этот переполненный людьми эшелон. Детей передавали над головами, вещи забросили в окно. Как-то влезли в вагон. А там яблоку негде упасть. Проводница сжалилась и уступила место в своем купе, хотя и в нем солдат было полно. Они потеснились, и мама обрела себе место. Можно было вздохнуть.
Эшелон тронулся в путь. А в пути у моего братика стали лопаться гнойные чирьи. Крик - на весь вагон. Солдаты не возмущались. Они терпели, понимая, что виной всему – война. В вагоне, на счастье, был военфельдшер. Он помогал обрабатывать раны от чирьев. И, наконец-то, после стольких дней мученья ребенок заснул.
Солдаты, молоденькие ребята, как могли, помогали маме в пути, играли с детьми. Мама с благодарностью вспоминала этих ребят. Но благостное настроение было недолгим. Произошло страшное. Начались авианалеты на эшелон.
Во время бомбежки поезд останавливался, солдаты выскакивали из вагонов. Но мама оставалась на месте, в страхе обняв нас, – будь, что будет! Горели в нашем составе вагоны, но наш вагон каким-то чудом беда миновала. Сколько же маме, бедненькой, пришлось натерпеться и напереживаться, пока поезд добрался до места назначения, в город Тбилиси…
Начались трудные тыловые военные годы, но мы, дети, в силу своего малого возраста, не очень-то ощущали и понимали эти трудности. Мои воспоминания связаны с последними годами войны, когда мы жили в Батуми. Только маме одной известно, какой ценой она растила нас. Особенно трудно было с питанием. Помню продуктовые карточки. Их берегли, как зеницу ока. Нам мама их не доверяла – мы еще были малы.
Мы почти не видели ни молока, ни мяса. Молоко в то время стоило очень дорого и берегли каждую молочную каплю. Отчетливо помню случай, когда мама поставила меня у керосинки следить за молоком, чтобы оно, закипев, не сбежало. Стою, стою, а оно не поднимается. А мне же надо узнать, что делается во дворе – там играют дети, а у меня такое задание. И я – то к двери, то к керосинке. А молоко никак не поднимается. Злюсь на него! Очередной раз подбежала к двери, и - только назад, а молоко уже сбежало. Ужас! Что будет? Страх сковал меня. Вот тогда в первый и последний раз в жизни папа шлепнул меня по попе так, что я запомнила этот шлепок на всю жизнь. И молоко – тоже… С тех пор не долюбливаю молоко, а больше обожаю картошку в мундире – наше лакомство того времени, и хлеб.
Нас иногда подкармливали на солдатской кухне санчасти, куда мы, детки, прибегали «помочь» почистить картошку. Сначала смотрели, какой дядя-повар дежурит, добрый или нет. Если добрый, мы входили на кухню, садились возле большого котла на полу и, как могли, пытались чистить картошку. Повар понимал, что нас приводит сюда. Он звал нас к столу. Мы усаживались за стол на длинные лавки и с нетерпением ждали. Перед нами появлялись тарелки с горячей картошкой или кашей с подливкой, иногда мясной. О! Вы не представляете, как было вкусно. Какая радость!
В этой же санчасти взрослые иногда устраивали концерты для больных солдат. В них участвовали и мы, - кто мог читать стишки или петь. Я исполняла (часто даже на «бис») песенку «Колокольчики мои, цветики степные». Иногда забывала слова от смущения, но мне дружно аплодировали, подбадривали и просили повторить. Сейчас смешно это вспоминать, а ведь – было!
Однажды услышала во дворе вопль: «Немцев ведут!». Мы, ребятня, бегом на улицу. Вдоль мостовой уже стояли люди и смотрели, как шла колонна пленных немцев. Шли молча, без головных уборов, полубосые. Почему-то мне запомнился стук их шагов. Он резал слух. На ногах у некоторых были подобия сандалий –деревянные подошвы с веревочкой наверху, - тогда их называли колодками. Как попали пленные в наш город и куда их вели, я не знаю. Люди провожали их взглядом, наверное, каждый со своей мыслью…
В последние годы войны появились продукты так называемой гуманитарной американской помощи (второго фронта). Фантастическое печенье, галеты, консервы – всего не помню. Это считалось праздничным пайком-дополнением.
Когда меня готовили к школе, в первый класс, родители не могли найти портфель. И тут папа приносит необычный портфель, брезентовый, камуфляжной расцветки (хаки с пятнами), видимо, тоже из американской помощи. Я сопротивлялась, но меня убедили, что это на время, - потом купят другой, настоящий. К нему прикрепили чернильницу-непроливашку в мешочке, которая болталась по портфелю и, конечно же, вскоре он покрылся еще и чернильными пятнами. Такого портфеля, уж точно, ни у кого больше не было.
Тетрадей не хватало, писали сначала на листочках, которые выдавали в школе, газетах, какую-то бумагу доставали родители. Позже появились «общие тетради», необыкновенного размера и красоты, блестящие, глянцевые, в клеточку и линеечку. Целое богатство. Очень я берегла заморские тетрадки, дорожила каждым листочком.
А вот что касается игрушек – их просто не было. Мечтала о кукле, правда, никогда никому о своей мечте не говорила. Мечта моя так и не сбылась. Только уже позже сама – неумело - рисовала куколок на твердой бумаге, вырезала, раскрашивала и так же «шила» им наряды из газет и какой-то бумаги – на свой фасон. Но они были очень недолговечны. И все же забава. Играли, в основном, разными камушками, разноцветными тряпочками. Любимые игры – прятки, салки, мяч – всё на свежем воздухе. Моим лучшим другом был тогда мальчик из соседнего двора, грузин по имени Джемал. С ним мы изучали все окрестности. Жив ли он?
Летом 1947 года меня и брата Руслана отправили в пионерский лагерь Зеленый Мыс. Нас разместили, как мне казалось тогда, в белом дворце «у самого синего моря», на горном возвышении, одетом в тропическую зелень. Во дворце большая зала с видом на море – в ней расставлены в три ряда железные кровати и койки. В ряду – до восемнадцати кроватей. И - полно детей. Разных возрастов – от шести до тринадцати лет. Постельное белье на кроватях – от родителей, которое менялось ими же. На некоторых кроватях спят по двое. Мы с братом тоже спали вместе – валетом. Рядом стояла кровать детей Шапарневых (мы дружили семьями) – они тоже спали валетом (старшему Виктору – одиннадцать лет, младшей Майе – шесть). Трудно представить, что происходило: вечером детей не уложить, утром – не поднять. Много было самых курьезных случаев… Но под неусыпным вниманием воспитателей, людей в белых халатах, мы пребывали во власти счастья. Нам было весело, несмотря на такой шумный, крикливый балаган. Море. Солнце. Камни. Здорово! Золотое время. Плохое не помнится.
В начале второго класса нас, октябрят, принимали в пионеры. Для этого нужен был обязательно пионерский галстук, а его негде достать. Мама нашла выход: из куска материи цвета кумача вырезала два треугольника и сшила их – галстук получился со швом в середине. Разве это галстук? – терзалась я. Ужасно переживала: из-за такого галстука меня могут не принять в пионеры. На пионерской линейке все мы держали свои галстуки на вытянутых руках. И я держала свой, замерев от страха – что мне скажет вожатый? Но обошлось! Галстук мне повязали, не заметив ни шва, ни моих душевных мук…
Одевались мы в то, что шила нам мама из подручных материалов, из старых и перелицованных вещей. Мама очень хорошо шила – модно и со вкусом. Знакомые удивлялись: где она достает детскую одежду, когда нигде ничего нет. Она вязала крючком удивительные беретки, шапочки, кофточки. Мама одевала нас аккуратно и красиво.
Жизнь потихоньку налаживалась, но из-за влажного климата и плохого питания у меня и мамы обнаружился туберкулез в закрытой форме. Наша семья вынуждена была уехать из Грузии в солнечную Молдавию, в город Унгены. Здесь я пошла в четвертый класс железнодорожной школы. Меня удивило, что в классе были дети-переростки, старше меня и бедно одетые. Это были дети, лишенные возможности учиться в годы войны.
Здесь, в Молдавии, летом 1949 года, произошел трагический случай, как отголосок войны. Погиб 14-летний мальчик из нашего двора Андрюша, с которым мы дружили, сын офицера-пограничника. Во время отдыха в пионерлагере, он нашел на опушке леса заряд или ручную гранату. Как все любопытные мальчишки, стал ее рассматривать. Его окружили дети. Вдруг раздался взрыв. Андрюша погиб сразу, но были и другие жертвы этого взрыва. Для нас, детей, этот случай стал страшным нервным потрясением, от которого долго не могли придти в себя: война ведь закончилась несколько лет назад, но до сих пор сеет смерть. Было страшно.
В Унгенах у нас появилось свое небольшое хозяйство: несколько гусей, кур, огород. Питались намного лучше. Но молдаване совсем недавно пережили неурожайный 1947 год, и здесь я впервые услышала, что такое суп из лебеды… Тем не менее, жизнь становилась полней и радостней. Нас ждало еще немало испытаний, но это уже позже… А мы, дети, подросли, повзрослели и полны были радужных надежд.
В принципе, небольшая толика воспоминаний о послевоенном детстве не вызывает у меня печального настроя. Наоборот, было много ярких событий, которые учили нас бороться с невзгодами, не ныть, а идти к цели. И самое главное – с нами всегда были наши родители, на плечи которых легла вся тяжесть военных и послевоенных невзгод".
Из сборника очерков о детстве в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Пули искали меня…» (Рига, 2015).
Публикация согласована с редактором-составителем Панченко Верой Иосифовной,
писательницей, поэтессой, переводчицей, журналисткой, членом Союза писателей Латвии, членом Союза российских писателей (гг. Рига, Псков).